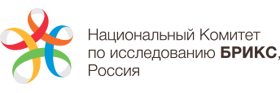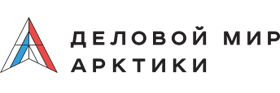Небольшая страна с большими шансами
Страны БРИКС и развивающиеся рынки вообще ассоциируются с дешевым трудом, с умением копировать, с высоким потребительским спросом, но не с инновациями и не с прорывными технологиями. Это обывательское представление хоть сколько-нибудь справедливо?
Оно более-менее справедливо в отношении основных стран БРИКС, но у России здесь выделенная позиция, она единственная входит еще и в «Большую восьмерку». Бразилия, Индия, Китай и ЮАР находятся в периоде индустриализации, Россия прошла ее в ХХ веке. И, конечно, есть разница в демографии, распределении трудовых ресурсов и уровне образования. Коллеги из развитых стран изумляются, узнав, какой у нас уровень грамотности, потому что в других странах БРИКС он совсем иной. Несмотря на то что Россию совершенно справедливо относят к emerging markets, как мне представляется, в рамках БРИКС Россия могла бы занимать лидирующее положение, быть культурным и деловым переводчиком между развитым миром, к которому она относится, и развивающимися странами.
Интересно, готовы ли другие страны БРИКС воспринимать Россию в таком качестве?
В чем-то да, в чем-то нет. И Китай, и Индия, как известно, являются импортерами российской высокотехнологичной продукции в области оборонной промышленности. Они очень многое заимствовали у Советского Союза, скажем, китайская академия наук была в свое время построена советскими учеными, равно как и современная образовательная система Индии. Сейчас она представляет собой любопытную смесь классической британской и абсолютно советской системы образования. Кстати, оказалось, это дает синергетический эффект и работает чрезвычайно эффективно. Исторически у нас более слабые связи с Бразилией и ЮАР, но сейчас они развиваются.
Новейшие разработки, как принято считать, приходят из считаного количества стран. Может ли измениться интеллектуально-технологический баланс на горизонте 15–30 лет?
Думаю, да. И, как ни странно, Россия имеет здесь очень хорошие шансы. Несмотря на то что лишь США и Индия являются нетто-экспортерами программного обеспечения, Россия может войти в эту группу. Мы часто сами плохо знаем, какое количество технологий и разработок, родившихся в России, встроено в продукцию ведущих мировых компаний. Обратно они зачастую приходят уже упакованными, под тем или иным крупным брендом. Приведу только один пример: в движке Skype используются российские разработки.
20 лет назад люди не знали, что у них есть нужда в мобильных телефонах. Это было предложение, которое попало в точку реальной внутренней потребности человека. такие вещи не спрогнозируешь
Можно ли уже говорить о новом разделении интеллектуального труда, которое возникнет на том самом горизонте? Если да, то какой будет его география?
Говоря о перспективе глобального распределения труда и, самое главное, о перспективе распределения добавленной стоимости, коэффициентах прибыли, надо понимать, что современная постиндустриальная экономика смещается от производства к инжинирингу и разработке. Прибыль дают не производственные мощности, они во многих секторах даже убыточны, а то проектирование, которое обеспечивает уникальность конкретного продукта. Тренд – переход от традиционной вертикальной интеграции во всех видах технологического бизнеса к горизонтальной кооперации. Еще 25–30 лет назад автомобильные компании делали все сами, сегодня – абсолютно другая структура, несколько уровней поставщиков, а собственно автопроизводители выступают в роли разработчика, дизайнера и системного интегратора, выбирающего между продуктами, уже имеющимися на рынке или произведенными по их заказу. Такая же ситуация в микроэлектронике и авиации. То есть центр добавленной стоимости смещается от производства к разработке, и здесь есть большие возможности для участия не только в рынке развивающихся стран, но и в глобальной экономике. Я вижу Россию как мировой дизайн-центр с производством, вынесенным на другие развивающиеся рынки.
В автомобильной промышленности Россию воспринимают как сборочный цех.
Нет, сборочный цех – это Китай и новые страны Юго-Восточной Азии. Россию вообще не воспринимают как участника глобального технологического процесса, только как поставщика сырья. Здесь, конечно, большой рынок сбыта, это видно по количеству высокотехнологичных продуктов, на которые тут есть спрос, начиная от Airbus и Boeing, заканчивая мобильными телефонами. Но это ведь не крупнейший рынок, все-таки Россия относительно маленькая страна. Представление о размере ее территории вводит обывателя в заблуждение насчет размера экономики и населения. Подозреваю, мало кто в мире понимает, что население России немногим больше населения Японии. Рынок сбыта Китая в десять раз больше. Население там огромно, однако по ВВП на душу населения он отстает в разы, Индия отстает еще больше. Но потенциал спроса, определяемый пристойным доходом на душу населения, и темп повышения уровня жизни делают нас более привлекательными.
Миссия РВК подразумевает «ускоренное создание конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной системы». Звучит несколько утопически. Или нет?
Как ни странно, согласно нашим оценкам и оценкам крупных зарубежных аналитиков, развитие венчурного рынка и его влияние на инновационное предпринимательство у нас в стране говорит о том, что мы вполне обеспечиваем ускоренное развитие венчурной индустрии. Если посмотреть обзор Dow Jones, опубликованный Wall Street Journal в конце января, то можно увидеть, что Россия вышла на четвертое место в Европе по абсолютным объемам венчурных инвестиций после Великобритании, Франции и Германии и на первое место по темпам роста рынка.
Насколько в этом рынке заинтересован частный капитал, готов ли он конкурировать за проекты?
Частный капитал составляет основной объем рынка, государственный – не больше 10%. У нас уже однозначно сложилась конкурентная среда. Да, рынок кривой, на нем сильные перекосы. Прежде всего это касается секторов. Огромная доля инвестиций, больше 70%, уходит в Интернет, коммерческие IT-проекты, ориентированные на внутренний рынок. Они простые, базируются на уже апробированных бизнес-моделях. То есть буквально берется модель, продемонстрировавшая свою эффективность на других рынках, и внедряется здесь под новым названием. Подобные проекты действительно быстро окупаются, только у них есть один системный недостаток: они не имеют потенциала конкурентоспособности на мировом рынке. Даже успешный «Яндекс», начинавший почти одновременно с Google, сегодня испытывает проблемы в развитии на внешних рынках, «Одноклассникам» или «ВКонтакте» новыми Facebook не стать. При этом другие технологические сегменты сильно недоинвестированы. К примеру, очень мало вложений в альтернативную энергетику – один из основных объектов инвестирования на развитых рынках.
Какая из большой группы развивающихся стран максимально приблизилась к тому, чтобы соответствовать формулировке, представляющей вашу миссию, то есть создала систему ускоренного развития, конкурентоспособную на глобальном рынке?
Китай. Просто он подошел к постановке этой задачи на 20 лет раньше, чем Россия. Он приложил большие усилия, чтобы привлечь зарубежные, в основном американские компетенции. Дело даже не в зарубежных инвестициях, хотя они, несомненно, тоже были, а именно в компетенциях, это то, в чем мы наиболее остро нуждаемся.
Пекин ведет правильную политику, грамотно перенося компетенции в бизнесе, и технологическое копирование здесь мало значит. Они не просто копируют, а учатся правильным рынкам, анализу и бизнес-моделям. Ведь Китай, при всех его масштабах, почти исчерпал свой потенциал экстенсивного развития
При этом китайские компании нередко обвиняют в воровстве технологий.
Понимаете, организация бизнеса, анализ рынков и бизнес-модель supply chains не обладают защитой, а главные компетенции нужны именно для этой части технологического бизнеса. У меня есть любимый тезис, и за 30 лет в этом бизнесе я убедился в его жизнеспособности: технологии – это самое простое. Технологический бизнес не про технологии, он про увлеченных людей, про востребованность и про латентную потребность. Самые успешные проекты уже востребованы сегодня, а нас интересует то, у чего есть потенциал востребованности. 20 лет назад люди не знали, что у них есть нужда в мобильных телефонах. Это было предложение, которое попало в точку реальной внутренней потребности человека. И, как правило, такие вещи не спрогнозируешь. Ведь никакое исследование не показало, что у людей во всем мире есть необходимость быть все время на связи. То же самое с социальными сетями. До появления технологии онлайн-общения никто не знал, что это нужно. Поэтому все механизмы заимствования – это догоняющая модернизация. Это развитие, которое не имеет потенциала прорыва.
То есть Китай – это догоняющая модернизация, а что тогда Россия?
Евгений Касперский обнаружил потребность, когда ее еще не было, и стал одним из лидеров мирового рынка. То же самое относится к Parallels, например. У нас есть компании, которые вскрывали латентную нишу. Их на порядки меньше, чем хотелось бы, но они есть. Таких китайских компаний я не знаю. Пекин ведет правильную политику, грамотно перенося компетенции в бизнесе, и технологическое копирование здесь мало значит. Они не просто копируют, а учатся правильным рынкам, анализу и бизнес-моделям. Ведь Китай, при всех его масштабах, почти исчерпал свой потенциал экстенсивного развития. Низкая стоимость местной рабочей силы обеспечивается тем же, чем обеспечивалась индустриализация 1930-х годов в Советском Союзе – крестьянством. Это ресурс, приближающийся к завершению. Нас ждет существенное перераспределение рынков с перефокусировкой на внутренние потребности, и внутренний рынок становится глобально привлекательным.
Ко всему этому приложима критика иного рода. Передовые компании, создавая спрос на новинки, заставляют человека растрачивать себя в погоне за мнимой необходимостью и съедают его энергию и время. Формируя очередную сомнительную потребность вроде бесконечного общения в социальных сетях на удобном планшете, они заодно снижают качество нашей жизни. Да, теперь мы мобильны, доступны и всегда на связи, но зато меньше думаем и вообще живем. Как вы относитесь к такого рода обвинениям?
Не согласен, в последнее десятилетие мы переживаем глобальные изменения, сравнимые с промышленной революцией рубежа XVII–XVIII веков. После нее мир стал другим. Сейчас мы пришли к уникальному историческому моменту, когда меньшинство способно прокормить большинство. В начале XIX века 95% населения обеспечивали базовые потребности 100%, теперь то же самое делают 5%. Соответственно, оставшиеся 95% оказываются в незнакомой для себя ситуации: у них появляется свободное время. Раньше время было только у элиты. Сегодня оно стало свободным ресурсом почти каждого, и это очень большой социальный сдвиг, потому что это время надо эффективно занять. Когда нет необходимости в поте лица зарабатывать на хлеб, можно, пафосно выражаясь, сохранить себя как человека, не быть объектом откорма на свиноферме. Поэтому и латентные до сей поры потребности, те, до которых не доходили руки и которые не были обеспечены технологиями, становятся драйвером развития. Объем перерабатываемой информации увеличился в десятки и сотни раз.
Поколение моих родителей могло рассчитывать на то, что, окончив ВУЗ в 25 лет, они будут жить этими знаниями до конца жизни. Мне уже пришлось переучиваться два-три раза. А для поколения моих детей, подозреваю, вся жизнь будет учебным процессом
Да, но насколько продуктивна такая переработка?
Для кого-то продуктивна. И в прошлые века в среде аристократии были люди, прожигавшие жизнь в светских удовольствиях, а были те, кто создавал великие литературные произведения. Это никогда не будет равномерно, потому что люди не равны по определению, не равны от рождения. И максимум, что может дать общество, – это потенциал самореализации. А уж реализоваться или нет, зависит от конкретного человека. Я убежден, что мы сейчас находимся на пороге грандиозных социальных изменений, и даже экономика здесь вторична. Об этом не принято говорить на бытовом уровне, но элементарный анализ истории последних 100 лет показывает, что драйвером развития социальных отношений всегда оказывались технологии.
Может ли благодаря этому измениться структура общества?
Да, на протяжении XX века произошло несколько структурных изменений общества, и они были связаны не с революциями, а с появлением автомобильного транспорта и пассажирской авиации, которые изменили уровень мобильности людей. Компьютеры и позже Интернет произвели взрыв доступности технологий работы с информацией. И сегодня они порождают даже большие социальные изменения, чем автомобили 100 лет назад. Ведь все социальные структуры, начиная от племени и заканчивая государством, были завязаны на территориальной смежности. Сегодня же для коммуникации расстояние вообще не имеет значения, и это, очевидно, приведет к глобальным социальным переменам. А вот предсказать, какую форму и направление они примут, пока невозможно.
Если говорить не про бытие, а про быт, будем ли мы узкоспециальными в плане профессии, образования, мышления?
Важный вопрос, но, по-моему, на него нет однозначного ответа. Любой эффективный профессионал должен иметь глубокое знание в своей области и одновременно – широкую информированность о смежных отраслях, да и вообще о том, как жизнь устроена. Проблема чрезмерно узкой специализации может сгладиться как раз благодаря появлению новых коммуникационных механизмов. Тем поколениям, которые сейчас вступают в жизнь, гарантированно не хватит багажа знаний, полученных в молодости. Поколение моих родителей могло рассчитывать на то, что, окончив вуз в 25 лет, они будут жить этими знаниями до конца жизни. Мне уже пришлось переучиваться два-три раза. А для поколения моих детей, подозреваю, вся жизнь будет учебным процессом. Все это может вызвать популистскую критику насчет усиления дифференциации человеческого капитала. Есть такой не слишком широко известный научный факт об экономической дифференциации общества – глобальный коэффициент Джини, его уровень в мире был примерно одинаков, что в 1900-м, что в 2000 году. Но в середине века он был почти в два раза ниже. То есть на протяжении XX века имущественная дифференциация сначала сильно падала, а к концу века снова выросла. И у меня есть уверенность в том, что роль традиционного финансового капитала снизится, зато будет повышаться роль и других капиталов: интеллектуального, человеческого, социального, организационного. В конце концов, финансовый капитал – это всего лишь механизм учета. Если угодно, в последние годы финансовый сектор развивался опережающими темпами по отношению к содержательной индустрии. Стали появляться производные финансовые инструменты, что вообще-то нонсенс. Производное от учета – это всего лишь другая форма учета, ничего больше. Значимость этих инструментов будет падать, а реальный капитал выйдет на первый план. И речь, конечно, не о физических активах, не о природных ресурсах, а о людях, занятых в науке, образовании, бизнесе.
Прошлой осенью мы привозили потенциальных инвесторов из Юго-Восточной Азии, и они проявляли интерес, но на уровне самых первых контактов. Так же и российские инвесторы не идут на развивающиеся рынки, а отправляются в Силиконовую долину, просто потому, что там все понятно
Вы говорили, что изменения, происходящие в мире сегодня, – это сдвиги на цивилизационном уровне.
Да, уже долгое время идет процесс перемещения основного центра развития из атлантической цивилизации в тихоокеанскую. Здесь, кстати, у России есть большие шансы: в мире мало стран, принадлежащих сразу к двум этим мирам. США, Россия и Канада. А вот Европа явно постепенно уходит на периферию, для этого она приложила много усилий в последние десятилетия.
Возникнет парк культуры и отдыха имени Европы?
Да, и это в большей степени относится к континентальной Европе. С точки зрения инновационности развития она будет на периферии. Центром сегодня нужно признать Западное побережье США и Юго-Восточную Азию. Ну и отдельные анклавы в Европе: Израиль, Великобританию.

В самой России вы выделяете Москву, это видно по портфелю проектов РВК, а на второе место ставите Томск как важнейший инновационный центр России. Почему именно Томск, а не Новосибирск или Санкт-Петербург?
А вот так получилось. Сам не знаю, что ответить. Мне тоже казалось с советских времен, что Новосибирск куда более продвинутый, в него всегда больше инвестировали, чего стоит его Академгородок – кампус мирового класса. Но в новых экономических реалиях Томск оказался куда более приспособленным и эффективным. Томск – не характерный для России город, его можно сравнить, наверное, только с Оксфордом, где студенты тоже составляют значительную часть всего населения. Там есть и инвестиции, и компании, представленные на глобальных рынках, и бизнес-инкубаторы. Несмотря на географическую удаленность, Томск – один из лидеров процесса глобализации в России.
Петербургские компании у «РВК» тоже есть. Но на самом деле Петербург оказался очень неэффективным в последнее десятилетие. Это страновая специфика, у нас огромное значение приобретает отношение региональных властей к бизнесу и экономике. Скажем, прогресс Томска – в огромной степени заслуга губернатора Виктора Кресса. Он понял, что экономика региона не будет достаточно развитой, если ориентироваться на природные ресурсы, в том числе и натуральные, хотя в Томке их на зависть много. Это понимают и в Татарстане. А в Санкт-Петербурге к идее инноваций относятся несколько свысока, и это порождает целый ряд управленческих ошибок. На излете Советского государства Питер оказался наиболее образованным городом. Четверть взрослого населения окончили вузы, такого не было больше нигде в СССР. При этом основная часть образованного населения работала в ВПК-ориентированных структурах, развалившихся в 1990-е годы. И никакого применения такому мощному интеллектуальному ресурсу Питер не предложил. Хотя там наблюдаются парадоксальные явления, Петербург сегодня – это основной кластер разработки программного обеспечения. Сейчас многие транснациональные компании решают, в каком городе вести работу, где тот технологический центр, альтернативный Сколкову, и Питер, конечно, первый в списке. Но это заслуга не местной власти, а нескольких университетов, сохранивших школу подготовки кадров, и нескольких крупных корпораций, вырастивших инженеров-менеджеров. К сожалению, они никогда не поддерживались теми, кто там отвечает за развитие. Вместо этого ставка делалась на совершенно депрессивное производство, такое как сборка автомобилей.
Прогресс Томска – в огромной степени заслуга губернатора Виктора Кресса. Он понял, что экономика региона не будет достаточно развитой, если ориентироваться на природные ресурсы, хотя в Томске их на зависть много. А в Петербурге к идее инноваций относятся свысока, и это порождает управленческие ошибки
Видите ли вы осознанный интерес инвесторов из развивающихся стран к России и, наоборот, интерес российских инвесторов к развивающимся рынкам?
Я вижу какие-то его зачатки, но не реализацию. Прошлой осенью мы привозили потенциальных инвесторов из Юго-Восточной Азии, и они проявляли интерес, но на уровне самых первых контактов. Так же и российские инвесторы не идут на развивающиеся рынки, а идут в Силиконовую долину, просто потому что там все понятно.
В этом смысле Алишер Усманов и Юрий Мильнер со своим DST не революционеры, они идут по проторенной дорожке?
По-моему, да. Вообще, чтобы обеспечить олигархического типа темпы роста капитала на технологическом рынке, нужно ходить как раз проторенными дорожками. Это должны быть низкорисковые понятные инвестиции либо не затратный в финансовом плане посев. На развивающихся рынках высокие страновые риски, и я понимаю наших инвесторов, они боятся обжечься. А инвесторы из Кремниевой долины готовы идти на подобные риски ради доступа к человеческому капиталу. В России же человеческий капитал еще не настолько востребован.