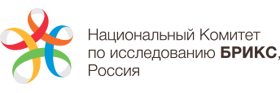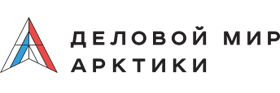Future Progressive. Александр Бикбов
Об утопиях и антиутопиях, новом обострении проблемы социального неравенства, превращении труда в привилегию и базовом доходе как важном инструменте гражданской солидарности
Все интервью выпуска #2(28) 2022, опубликованные под рубрикой «Будущее», перепечатаны из книги Future Progressive, которую выпустил в 2021 году ВТБ Private Banking. Печатается с сокращениями
Чем занимается Высшая школа социальных наук, в которой вы работаете?
Школа создавалась на реформаторской волне во Франции в самом конце 1950-х – начале 1960-х годов. К тому моменту она собрала всех звездных и одновременно маргинальных исследователей: тех, кто уже получил интеллектуальное признание (среди них антрополог Леви-Стросс, семиолог Ролан Барт, социолог Пьер Бурдье и т. д.), но не был вписан в университетскую структуру, слишком архаичную и иерархичную. Ситуация во Франции тогда отчасти походила на ту, что неоднократно случалась в российской интеллектуальной истории, когда лучшие умы не находят своего места в университетах. В Высшей школе социальных наук эти блестящие умы получили должности, обучая студентов на основе своих исследований. В Школе с самого начала не было классических лекций в переполненных амфитеатрах, как в Сорбонне. Взамен ввели практику компактных семинаров, на которых обсуждались специальные и на первый взгляд узкие исследовательские вопросы, позволявшие, однако, выходить на масштабные интеллектуальные обобщения и понимание современности. С середины 1970-х годов Школа представляет собой одну из бесспорных гуманитарных доминант в интеллектуальном пейзаже Франции.
Неравенство – тема огромной значимости и огромного драматического потенциала. В 1960-е годы казалось, что с ним можно покончить: избавиться от нищеты, обеспечить все телесные потребности человека, Но Оказалось, что это не так
Сейчас все говорят, что неравенство – большая проблема для человечества в целом. По вашему мнению, здесь действительно проходит линия разлома современного общества?
Современные управляемые неравенства – тема огромной значимости и огромного драматического потенциала. В 1960-е годы казалось, что с неравенством в индустриальных странах можно покончить раз и навсегда: автоматизация труда решала проблему производительности и избавляла от нищеты, а прогресс медицины, гигиены, пищевой промышленности обеспечивал все телесные потребности человека, о чем мечтали на протяжении многих веков. Оказалось, что это не так.
Неравенство – долгая историческая конструкция, обязанная не только экономике, но и культуре. Уже родительские семьи обеспечивают каждого из нас неравными стартовыми капиталами: и материальными возможностями, и образовательными установками, и навыками социальных связей, которые определяют дальнейшую биографию. Амбиции в учебе, спонтанный выбор друзей и знакомых, профессиональная карьера – та социальная микромеханика, которая плотно вписывает каждого из нас в большие неравенства, делая их частью личного опыта. Глобальная проблема неравенства масштабируется в показателях неравного доступа. Он разносит нас по разные стороны разграничительных социальных линий, которые создаются макроэкономическими сдвигами, миграционными процессами, скачками потребительских технологий. Политические институты могут размывать эти линии или, наоборот, делать их жестче, но не могут стереть их все сразу. Таков взгляд на неравенство, выработанный в научных поисках последнего столетия.
Существует и другой, более архаичный взгляд на неравенство как на результат естественного отбора. В нем неравенство предстает природным феноменом: склонность к успеху или бедности будто бы уже заложена в наших генах. Этот упрощенный взгляд тесно связан с отрицанием научного социального знания. Сегодня ситуация в России складывается таким образом, что сторонники естественного взгляда на неравенство нередко оказываются в сильных позициях, возглавляя институции, формируя политические и социальные программы. Так, в России существует государственная программа поддержки одаренных детей, но отсутствует система образовательной поддержки детей из бедных семей. Акцент на природной одаренности позволяет государственному и корпоративному менеджменту игнорировать объективную связь между культурными достижениями и материальной обеспеченностью. В то время как во Франции или Германии вопрос решается иначе: социальное неблагополучие признается историческим фактом, и рождение в семьях, наследующих бедность и слабый доступ к культуре, компенсируется специализированными программами. Тем самым институциональная ставка делается на системном решении, которое учитывает результаты исследований, а не на идеологии выявления «естественных» интеллектуальных элит.
В обществах, где возобладала концепция естественного неравенства, господствует идея, что главным инструментом избавления от несправедливости и неравенства должна стать частная благотворительность. В этих же обществах подорвано доверие к государственным институтам. Как недоверие к государству и надежды на благотворительность связаны с природным определением неравенства? Когда кризис или направленные реформы ослабляют социальные функции государства, торжествует социальный дарвинизм. Спасительный образ благотворителя, подменяющего собой государство, – это производная от фигуры успеха благодаря естественным талантам и способностям. Преисполненные щедрости победителей, такие люди добровольно и небольшими порциями могут спускать толику своего успеха по ступеням социальной лестницы.
В противоположность этому в обществах, где сильно историческое понимание неравенства, государственные институты чаще работоспособны и предлагают системные инструменты перераспределения материальных и культурных благ. Пусть даже, как и в России, у них тоже есть поводы усомниться в беспристрастности государства, больше игроков разделяют ожидание достаточно объективного, универсального решения проблемы.
Если попытаться заглянуть лет на 20 вперед, можно ли с достаточной степенью вероятности определить какой-то вектор социального развития? Как будет меняться существующий общественный договор завтра и послезавтра?
Здесь мы вступаем на весьма зыбкую почву. Наблюдая динамику последнего десятилетия, легко набросать эскиз обществ, которые прямым ходом движутся к революции. Дело в том, что революции – не абсолютное и неожиданное историческое исключение, а метод разрешения тех напряжений, которые не разрешаются иными способами. При этом у господствующих сегодня есть своего рода карта в рукаве (как им кажется, козырная) – новые технологии контроля над населением. Речь о наборе сопряженных систем – от банковских кредитов и налогов до пресловутого Face Pay в московском метро, от видеорегистрации городских потоков до электронной регистрации безработных и начисления пенсий. Учитывая, как можно относительно легко их перенаправлять или блокировать, власти питают надежду, что в нужный момент, если что-то пойдет «не так», можно будет просто нажать на красную кнопку.
Я полагаю, что это крайне опасная иллюзия. И не только потому, что нажатие красной кнопки влечет за собой еще более серьезные последствия. Двойная опасность заключается в оправдании этой иллюзией того искусственного завышения неравенства, которое стало целью реформаторов государственного и частного секторов. Существующая сегодня автоматизация труда и доступные потребительские технологии поддерживают в обществе запрос на гораздо большую горизонтальность – равенство и свободу. Попытки экономить на социальных и культурных расходах, как и на зарплатах при сокращении человеческого труда, в этих условиях просто разрушают основы мотивации и продуктивности. По сути, госадминистрации и крупные компании подпиливают сук, на котором сидят. Это очень заметно в таких сферах, как культурное производство и наука, когда ученые все реже идут на искреннее сотрудничество с администрацией, понимая, что они оказываются по разные стороны баррикад.
С какими главными проблемами обществу придется иметь дело в ближайшие два-три десятилетия? Как в связи с этим будет меняться социальная наука?
Одна из главных проблем прямо вытекает из сказанного ранее. Это проблема контроля в обществе, где все меньше человеческого труда. Механизация, автоматизация, о которых не переставали говорить с 1950–1960-х годов, достигает сегодня такого уровня, что в экономике остается все меньше места для полного трудового цикла, основанного на мускульной энергии и индивидуальных компетенциях работника. Они переводятся в алгоритмические формы, а это значит, что труд превращается из тяжелого бремени, каким он мыслился в конце XIX века, в своего рода дефицитную практику, если не привилегию, что ведет к росту так называемых бессмысленных видов работы. Причем не в тех сферах, о которых принято думать в первую очередь. Я специально обсуждал с социологами, занимающимися автомобильной промышленностью, происходит ли ее тотальная автоматизация. Оказалось, до этого далеко. Труднее всего автоматизации поддается сборочный конвейер, поскольку сегодня точность визуального подтверждения механических операций у роботов недостаточна. Парадоксальным образом быстрее автоматизируется труд юриста, банкира и переводчика, то есть интеллектуальные профессии. В то время как конвейер, что кажется абсолютным нонсенсом по меркам 1960-х годов, все еще требует физического присутствия человека.
Как продолжит существовать общество, где труда становится все меньше, где он превращается в редкость, привилегию? С одной стороны, это большая управленческая проблема, с другой – ресурс эмансипации. Если затраты на материальное производство снижаются в циклах автоматизации, то можно было бы обеспечить всем безусловный базовый доход. Но это огромный вызов для сторонников естественного неравенства. Потому что базовый доход для многих управленцев ассоциируется с паразитизмом, с тем, что людям будет нечем заняться, что они начнут пьянствовать, залипать в Сети или, не дай бог, включаться в протесты. То есть невозможное решение дилеммы упирается не в инертность техники, а в политические опасения, что общество станет неуправляемым. Дело еще и в том, что на протяжении последних столетий труд служил не только источником экономического богатства, но и средством воспитания опасных классов. Когда воспитательная функция труда будет пересмотрена, а это произойдет не через 5 или 10 лет, начнется новая эпоха осмысления и управления обществом. Она определит сдвиг не только в экономике, но и в обширном поле отношений, исследуемых социологией.
Второй большой вопрос – дизайн институтов, механизмов власти и коммуникации в обществе, которое становится все более индивидуализированным. Вообразим себе на минуту, что труд – своего рода кимберлитовая трубка, в которой происходит формирование социальных структур, и что она постепенно растворяется. Если коллективный труд утрачивает принудительный характер, люди начинают встречаться и общаться в других местах, вступать в связи на новых основаниях. Уже сейчас все больше работников следуют моделям самонайма и самомотивации, управляя временем своей жизни в индивидуальных и узкогрупповых форматах. И это еще один вызов как для общественной солидарности, так и для социальных наук.
Какой сценарий общественного развития видится вам вероятным?
В моем представлении, через 20 лет при возросшем уровне автоматизации, индивидуализации и техник контроля над производственными процессами невозможно будет обойтись без достойного базового дохода. Растущие напряжения, о которых шла речь, невозможно разрешить иначе. И вопрос о выборе пути будет стоять весьма радикально. Это либо подталкивание масс людей к управляемой бедности, которая усилена глобальным и жестким полицейским контролем, либо достойный базовый доход и гораздо более мягкие системы мотивации и надзора. В социальной перспективе первый вариант – это возврат в XIX век, попытка дубинками оградить богатых благовоспитанных граждан от опасных, которые постоянно балансируют на грани нищеты. Но если правительства и бизнес достаточно умны, чтобы понять: жесткий контроль и управляемая бедность будут стоить гораздо дороже в среднесрочной перспективе (пусть это и кажется более приемлемым решением в краткосрочной) – безусловный базовый доход станет основой нового социального договора. Когда я говорю о достойном доходе, речь идет не о 100–300 евро, которые порой обсуждаются сегодня как своего рода морковка для ослика, бегущего к ней из последних сил. Ведь это просто еще одна форма контролируемой бедности. Базовый доход должен обеспечивать и экономические, и культурные траты, соответствуя уровню автоматизации производств. Его размер приемлем, когда он обеспечивает возврат к солидарным отношениям граждан с государственными институтами. В этом смысле базовый доход – условие гражданской солидарности. Хочется верить, что вслед за сбоем 2010-х годов в управленческой рациональности через 20 лет возобладает этот сценарий.
Вопрос в том, насколько заинтересованы будут в гражданской солидарности те, кто принимает решение о введении или невведении базового дохода. Два слова о городах: что будут представлять собой мегаполисы, как в них будет устроено социальное взаимодействие на среднесрочном горизонте?
Взять масштаб города – прекрасный способ придать утопии более реалистичный вид, поскольку в городах сплетаются конфликтные тенденции. Это особенно хорошо видно в мегаполисах, где рост цен на землю и недвижимость одновременно с технологизацией и прозрачностью центра сопровождается расширением периферийных анклавов архаической бедности и неравенства. Учитывая токсичность и агрессивность капитализма, который сегодня господствует поверх национальных границ, инициируя новую сегрегацию и массовую миграцию, трудно предполагать, что эти процессы закончатся через 20 лет. Города останутся местом контрастов, социальной биполярности: районов растущей чистоты, потребительского комфорта и благопристойных манер, которые лишь пунктиром отделены от перенаселенных окраин, подвергаемых регулярным полицейским рейдам. Практический перевод универсалии базового дохода в социальную структуру города, вероятно, соединит самые радужные утопии с самыми мрачными антиутопиями.