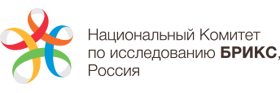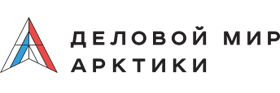Природно-психическое явление
Разговор с лингвистом о языке, истории и политике
Один из самых известных в мире российских лингвистов знает единственно возможный рецепт по созданию мирового языка. Об этом, а также о связи языка и мышления, об Африке и последствиях глобализации член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова и отделом корпусной лингвистики и поэтики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Плунгян рассказал в интервью BRICS Business Magazine.
Вы не раз высказывали идею о том, что каждый язык подразумевает под собой самостоятельную систему мышления. Что это в действительности означает? Как язык связан с сознанием? Влияют ли его грамматические основы на то, как мы думаем и принимаем решения?
Сам я такую идею не высказывал, насколько я помню, но действительно ссылался на очень распространенное в современной лингвистике (хотя и не общепринятое) мнение. В целом это очень сложный вопрос, и я бы предостерег от эффектных, но прямолинейных утверждений. Ученые ведь вообще люди довольно занудные – и всегда любят подчеркнуть, что все неоднозначно, что поспешные вердикты опасны и т.п. Это, собственно, и отличает их от неспециалистов – у последних все всегда черно-белое и очень просто устроенное…
Язык и мышление, безусловно, связаны, но это очень расплывчатое утверждение. Тонкость в том, как именно они связаны. В истории лингвистики есть некоторые «экстремистские» гипотезы, самая известная из которых – гипотеза Сепира – Уорфа. Она говорит, что наше мышление жестко детерминировано нашим языком. Сепир – великий американский лингвист, который на самом деле к этой идее имел мало отношения, он просто доброжелательно относился к Бенджамину Ли Уорфу, инженеру-химику и специалисту по страхованию, одаренному дилетанту с несколько странными и порой парадоксальными идеями. В какой-то момент Уорф открыл для себя языки индейцев, и они поразили его непохожестью на европейские языки. Испытав своего рода шок от этого знакомства, Уорф и сформулировал свою гипотезу: то, как устроен язык – его лексика и грамматика, – напрямую влияет на то, как мы способны – и не способны – мыслить и воспринимать мир. Наш родной язык, по мнению Уорфа, накладывает на нас очень жесткие ограничения. Ну, например, из того, что в языках индейцев нет грамматической категории времени, делается вывод, что представления этих народов о физическом времени тоже отличаются от европейских. Есть даже знаменитое утверждение Уорфа примерно в таком духе, что если бы Ньютон родился индейцем, то никакой классической механики никогда бы не возникло.
Конечно, профессиональные лингвисты гипотезу Сепира – Уорфа сейчас всерьез не обсуждают, никто в эти эффектные, но не подтвержденные никакими фактами утверждения не верит. Вместе с тем связь языка и мышления признают все. Язык – это та форма, в которой мы мыслим. Основная проблема – оказывают ли особенности этой формы хоть какое-то влияние на наше восприятие мира и на наши поступки. До сих пор в популярной литературе время от времени какие-то наивные рецидивы уорфианства случаются. Недавно я читал обзор одного экономиста, который утверждал что-то вроде того, что те языки, у которых есть грамматически оформленное будущее время, порождают общества с успешной экономикой.

По-моему, это полная чушь. В том же английском будущее время существует в очень проблематичном виде – единого показателя будущего времени в языке нет. Например, will – модальный глагол, у него много других значений: намерения, готовности. Английский язык как раз яркий пример языка со слабо специализированным будущим временем, как, собственно, и другие языки германской группы. А германские, скандинавские страны – где же еще искать передовую экономику? Но там с будущим временем неважно. А вот, скажем, в славянских языках будущее время выражается прекрасно.
Профессиональному лингвисту ясно, что понятие будущего времени очень сложное, это, вообще говоря, ярлык без внятного содержания. Неспециалисту кажется, что это очень простой ярлык, потому что он об этом никогда не задумывался. Чтобы условиться о том, что мы хотим называть будущим временем, нужно прочитать и написать много статей и книг. Но разумный способ договориться о значении будущего времени совершенно несовместим с теми утверждениями, которые делает автор.
Африканские языковые системы – одни из самых сложных, это настоящие жемчужины в языковом репертуаре человечества и, может быть, один из самых весомых вкладов Африки в мировую культуру. Африка – территория, где коренное население преобладает, и в ближайшем будущем этому громадному количеству языков почти ничего не угрожает
Причем такое наивное уорфианство – это ведь не совсем безвредная вещь. Получается такая этническая пропаганда с подспудным намеком: есть, мол, хорошие языки, пригодные для эффективного мышления, а есть языки бедные и неразвитые. Эта мысль, кстати, тоже совсем не нова, она еще из XIX века. Оценочное отношение к языкам современная лингвистика полностью отвергает: с инструментальной точки зрения все языки равноправны. Языки племен Бразилии или Новой Гвинеи, которые не вышли из стадии собирательства, не уступают в сложности китайскому, английскому или русскому, а в каком-то смысле даже превосходят.
Что такое корпус языка?
Корпус языка – это собрание текстов, представленное, во-первых, в электронной форме, а во-вторых, специальным образом обработанное, или, как мы говорим, размеченное. То есть составители корпуса вносят туда разную информацию, в основном чисто языковую: о грамматике, формах слова и прочем – все, что исследователю понадобится. Если разметка богатая, значит, богаты и возможности поиска, исследователь может найти в таком корпусе все, что его интересует: словосочетания с краткими прилагательными, глаголы прошедшего времени и т.д. То есть корпус дает возможность отбирать любую совокупность примеров с нужными свойствами, чего нельзя сделать через обычный поиск в интернете, потому что никто вам дательный падеж в Google не выдаст. Появлению корпуса предшествует серьезная работа, но когда она проделана, а сам корпус большой, появляется возможность работать с языком в несопоставимых с докорпусной эпохой масштабах. Это как изобретение телескопа или микроскопа в естественных науках.
Корпусная лингвистика – очень полезная и бурно развивающаяся область, можно сказать, это пример того, как использовать современные информационные технологии в гуманитарных знаниях. Хотя лингвистика не чисто гуманитарная наука: она всегда занимала промежуточное положение, ведь язык сам по себе – явление не только человеческой психики и культуры, но и явление природы, во многом относится к области бессознательного, обычный человек не осознает существования языковых правил и не контролирует законы развития языка. Тем в большей степени для изучения языка полезны «точные» и «объективные» методы.
Корпусы сегодня существуют для всех крупных и развитых языков. Для русского языка мы этот проект подготовили при поддержке компании «Яндекс» и ныне упраздненной Российской академии наук, это один из самых эффективных академических проектов последнего времени в гуманитарной сфере. Сейчас Национальный корпус русского языка доступен в интернете (www.ruscorpora.ru) и широко используется во всем мире – прежде всего, конечно, преподавателями и исследователями русского языка, но и для многих других целей.
При разработанном ноу-хау, при наличии технической платформы хорошую основу для корпуса любого языка можно создать за год-полтора, чтобы потом этот корпус постоянно пополнялся и совершенствовался. Но понимать, как хорошо сделать корпус, – трудно.
После корпуса русского языка та же команда сделала и ряд других корпусов; уже был накоплен опыт, поэтому в основном получились очень неплохие корпусы, особенно армянский, осетинский, ряд других. Для исследователей этих языков такие корпусы – бесценный подарок.
Все эти корпусы находятся в свободном доступе. Такова наша принципиальная позиция. Корпус – это, если угодно, такое высшее проявление научного альтруизма; он делается в меньшей степени для себя и в значительно большей степени – для всех, кому этот язык нужен и интересен.
Почему превосходят?
Есть такой эффект: чем крупнее язык, чем больше людей на нем говорят, тем больше вероятность, что его структура станет упрощаться. Сложность языка можно пытаться измерить, есть такие работы. Существует такое понятие, как «колмогоровская сложность»: грубо говоря, объект тем сложнее, чем длиннее его описание. Скажем, если в языке восемь типов склонений, то он сложнее языка, в котором тип склонения только один. Вот по таким параметрам языки малых этнических общностей оказываются, как правило, сложнее крупных. Это объяснимо: когда идет постоянный приток иноэтнических элементов, которые усваивают язык с нуля, языку приходится чем-то жертвовать. Поэтому, если говорить очень грубо, английский и китайский много проще языков мелких племен, ведущих замкнутый образ жизни.
Вы работали в Мали, изучали местный язык. Удалось ли воспринять новую систему мышления?
Было трудно. Я, к сожалению, не профессиональный африканист, я типолог, что ставит меня в положение вечного дилетанта: приходится знать немного о каждом языковом ареале. Но лет пятнадцать я все же довольно плотно занимался языками Африки, каких-то особо впечатляющих успехов не достиг, но говорить на некоторых из этих языков пытался. Чтобы делать это хорошо, надо уметь совсем по-другому подбирать слова и строить фразы – в каком-то смысле действительно иначе думать. Так что Уорфа отчасти можно понять: различия между человеческими языками бывают колоссальными и поражают неподготовленное воображение. Вот часто говорят: «непереводимая игра слов». Да, существует много такого, что на одном языке говорится легко и естественно, а перевести это на другой так же легко не получится. Конечно, любую мысль можно выразить на любом языке – такое утверждение тоже будет верным. Какой-то эквивалент найдется всегда. Сказать можно все и обо всем – проблема в том, что не всегда про это в реальной ситуации захотят говорить.
Новые языки не появляются с эпохи Великих географических открытий и технических революций: мир стал конечен и очень мал. Никакой народ не может разделиться так, чтобы полностью утратить контакт между разделенными частями. Раньше языки во множестве умирали и во множестве же рождались, но теперь, уже в течение нескольких столетий, они только умирают: малые языки поглощаются крупными. Это следствие глобализации, одно из наиболее ярких ее проявлений
И здесь мы переходим от устройства языка к устройству общества, к культуре. Ведь язык на самом деле – это и не волшебная палочка, открывающая любые миры, но и не жесткая колея, с которой нельзя свернуть (как считал Уорф). Язык – это по большому счету такая система настраиваемых шаблонов: то содержание, которое в данном сообществе наиболее востребованно, в данном языке и будет наиболее легко и естественно выражаться как средствами грамматики, так и средствами лексики. Хорошо известно такое явление, как культурно-специфическая лексика. Это как раз пример такого ментального шаблона. Вот русисты много пишут про слова «удаль» или «уют», которые трудно перевести на другие языки (хотя и можно на самом деле). Есть группа исследователей (Анна Зализняк, Ирина Левонтина, Алексей Шмелев), выпустивших несколько книг на эту тему. Они пытаются показать, что в русской культуре имеется некий удобный способ говорить о представлениях, свойственных именно этой культуре, ее, как они выражаются, «ключевых идеях» (key concepts). Например, возьмем глагол «добираться», который мы очень часто используем и в письменной речи, и в повседневной коммуникации. Оказывается, его достаточно сложно перевести на французский или английский – и даже не потому, что невозможно найти эквивалент, а скорее потому, что в английском или французском дискурсе мы не наблюдаем такого повышенного интереса к тому, кто, как, куда и зачем «добирался»: постоянное и мучительное преодоление враждебного пространства – не ключевая идея этих сообществ.
Моя основная научная специализация – лингвистическая типология. Это сравнение структур разных языков; типология отвечает на вопрос, как устроен человеческий язык, что в нем в принципе возможно, а чего не может быть. Настоящая лингвистика – наука не о каком-то одном языке, а обо всех языках человечества. На мой взгляд, типология – это одно из наиболее передовых направлений современной лингвистики (и в России, кстати, работают неплохие типологические школы, это направление у нас было традиционно сильным). Мы иногда пугаем коллег-русистов тем, что с точки зрения современной науки, для того чтобы хорошо описать русский язык, придется узнать, как устроены все другие языки человечества. Что ж, если говорить серьезно, то это во многом верно, потому что всякий человеческий язык – это вариация на определенную тему, и чтобы оценить степень вариативности, надо понять, какова эта наша тема. Никакой человек не может в совершенстве владеть всеми языками мира – их сейчас около 7 тысяч, но понимать, как все эти языки устроены, как они «работают», типолог должен.
Язык обслуживает тот комплекс представлений, который востребован социумом. Влияет ли он сам при этом на формирование представлений социума? Когда есть удобная и неудобная дорога, конечно, проще пойти удобной – но если вам действительно необходимо свернуть в сторону, вы свернете. И даже проложите новую дорогу. Можно говорить о том, что каждый язык – это своего рода дорожная сеть, где движение в каких-то направлениях плотное, а в каких-то других – слабое. Но это совершенно не значит, что какой-то язык от этого становится «лучше» или «хуже». Вообще искать преимущества или недостатки в языках я бы не стал, хотя различий в них достаточно.
Иначе мы придем к очень примитивной логике, наподобие того, что если, скажем, ваш родной язык китайский, то вы будете выращивать рис лучше всех остальных народов. Надеюсь, вы понимаете, что это, мягко говоря, далеко от истины.
Если вернуться к Африке, возможно ли ее понять европейцу? Этот континент становится огромным быстрорастущим рынком, который остальной мир должен научиться понимать и целиком, и фрагментарно.
Африка очень интересный континент, в какой-то степени забытый современным миром. Мы вспоминаем про Африку только тогда, когда читаем в прессе об очередных кровавых конфликтах. А для обычного человека она как бы и не существует, что, конечно, плохо. И тот, кто помнит о том, что на свете есть Африка, существенно отличается от тех, кто об этом не думает.
На самом деле понять Африку можно. Понимание – трудная деятельность. И вот, кстати, для чего нужно гуманитарное образование, о необходимости которого постоянно рассуждают сегодня. Оно, в частности, нужно и для того, чтобы уметь понимать чужое. Для того чтобы понять Африку, в нее нужно долго погружаться и уметь отказываться от стереотипов. И, конечно, знание африканских языков – или хотя бы знание об этих языках – здесь очень полезно. Африканские языковые системы – одни из самых сложных, это настоящие жемчужины в языковом репертуаре человечества и, может быть, один из самых весомых вкладов Африки в мировую культуру. Не забывайте, что в Африке местных языков, прежде всего, очень много – в отличие от Америки, Южной и особенно Северной, или Австралии, где коренные народы сильно маргинализованы и их языки сходят на нет. Африка же – территория, где коренное население преобладает, и в ближайшем будущем этому громадному количеству языков почти ничего не угрожает. Европейские языки, которые используются в большинстве стран как государственные, особого влияния на глубинные процессы не оказывают. Африканское общество остается очень традиционным и слабо затронутым европейской цивилизацией. В каком-то смысле это очень плохо, в каком-то – хорошо: сохраняется некая альтернатива. Тут есть очень серьезный предмет для изучения, и я бы призывал относиться к Африке серьезно, без обывательских предрассудков.
К ней относятся серьезно как раз по экономическим причинам. Но вы, наверное, говорите о другом.
Я больше говорю про то, что связано с культурой в широком смысле. Африка может внести очень ценный вклад в изучение человечества, поэтому меня всегда раздражают обывательские представления об Африке как о средоточии абсолютной дикости. Суждения такого рода, которые часто приходится слышать, характеризуют больше их авторов, обнаруживая их глупую самоуверенность и примитивную ограниченность. Африка – континент очень разных культур, многих древних цивилизаций, она очень сложна и очень неоднородна. Перед появлением европейцев там существовали тонкие и интересные структуры, которые европейцы разрушили, в основном даже не заметив этого. И, конечно, современная Африка – к сожалению, ареал повторяющихся гуманитарных катастроф. Но это проблема всего человечества, а не только африканских государств.
Есть некое ненаучное, но часто повторяющееся утверждение, что некоторым народам усвоенная система мышления, ее простота и рамки не позволяют перейти из неблагополучного состояния в благополучное.
Никаких рациональных подтверждений этому нет. Если говорить о языке, то это, как я уже упоминал, скорее просто дорожная сетка, которую легко изменить, если захочешь двигаться в другом направлении. И надо сказать, что по большому счету любое общество готово к изменениям и способно на них. Психически и физически все люди устроены одинаково, и потенциал у них изначально одинаковый.
Возвращаясь к Африке: с точки зрения лингвистики, еще раз повторю, Африка необычайно интересна для изучения. Вот например, во многих африканских языках есть такая замечательная грамматическая категория – она называется «временная дистанция», – которая указывает не просто грамматическое время события – прошедшее или будущее, – а уточняет, когда именно, как давно это событие произошло (или как скоро оно произойдет): только что, вчера, сегодня, завтра, несколько дней назад, давно (например, в течение года) или очень давно и т.п. В большинстве языков мы можем передать эту мысль обычными словами, обстоятельствами времени, а в африканских языках для этого существует отдельная грамматическая категория, то есть, говоря о событиях разной отдаленности, вы обязаны употреблять разные глагольные формы! Такого нет почти нигде в мире, это ярко выраженная особенность языков Экваториальной Африки.
Как лингвист, я призываю изучать Африку, это пока во многом неисследованный континент. Впрочем, лингвиста притягивают все ареалы, в которых можно обнаружить новые, неописанные или недостаточно описанные языки. На Земле таких мест еще хватает. В частности, стоит обратить самое пристальное внимание на языки российского Крайнего Севера. В нашей стране есть совершенно замечательные языки, которые, к сожалению, находятся не в самом лучшем положении. Это понятно: как правило, государственный язык нужен один, и пользы от такого единого языка очень много – в том числе и для жителей регионов. Но это значит, что другие языки будут уступать ему место и в конечном итоге все больше и больше сжиматься, вплоть до полного исчезновения. Да, переход на более «сильный» язык, как правило, происходит добровольно, но для науки это большая утрата. В нашем случае, например, вполне можно сказать, что языки Крайнего Севера по сложности грамматических систем и богатству лексики могут конкурировать с африканскими. Само собой, для описания той среды, в которой живут их носители, эти языки приспособлены идеально. Да, пытаться «консервировать» такой язык – это часто означает идти против течения истории. Но надо хотя бы понимать, что его исчезновение – это плохо, плохо в масштабе человечества. Не хотелось бы, чтобы люди думали, что переход с малых языков на крупные – это всегда безусловное и безоговорочное благо, ну хотя бы те люди, которые принимают решения.
А новые языки появляются?
Нет, новые языки не появляются и в ближайшей перспективе, скорее всего, и не появятся. Дело в том, что любой язык с течением времени и со сменой поколений меняется. Но новый язык возникает, когда утрачивается контакт между, скажем, двумя частями прежде единого народа. Через 300–400 лет различия, независимо возникшие в каждом из них, станут ощутимыми, еще через 300–400 – сильными, а примерно через полторы тысячи лет появятся полностью разные языки.
Понятно, почему новые языки не появляются с эпохи Великих географических открытий и технических революций: мир стал конечен и очень мал. Никакой народ не может разделиться так, чтобы полностью утратить контакт между разделенными частями. Раньше языки во множестве умирали и во множестве же рождались, но теперь, уже в течение нескольких столетий, они только умирают: малые языки поглощаются крупными. Это следствие глобализации, одно из наиболее ярких ее проявлений.

Насколько затруднено взаимопонимание людей, живущих в многоязычных странах?
Большая часть человечества жила и живет в условиях многоязычия – и вполне хорошо к этому приспособлена. Та же Африка именно так устроена: нормально, когда в детстве тебя окружает несколько языков, никаких препятствий в их понимании нет, человек легко может ими всеми овладеть. В этом смысле Россия достаточно необычная страна, где действительно господствует только один язык на гигантской территории. Надо заметить, что от Владивостока до Калининграда русский очень однороден: у него нет никаких заметных диалектов, за исключением, конечно, традиционных сельских, но их роль невелика, в обществе о них почти ничего не знают. В отличие от очень многих стран (Италии, Бельгии и т.п.), в России нет городских диалектов, нет значимых различий именно в речи городских жителей. В России даже специалист часто не способен сказать, откуда именно приехал человек, максимум назовет регион. А, допустим, в Бельгии по двум-трем предложениям можно угадать родной город говорящего: одно дело, например, Гент, совсем другое – Антверпен, а ведь расстояние между ними по российским меркам ничтожно. Вообще Европа очень мозаичный регион, почти для всех ее стран характерна языковая и диалектная дробность.
Различия между языками бывают колоссальными и поражают неподготовленное воображение. Часто говорят: «непереводимая игра слов». Да, существует много такого, что на одном языке звучит легко и естественно, а перевести это на другой так же легко не получится
Обычно так и бывает – и чем больше территория, тем больше языковая дробность. Только Россия оказывается исключением. Видимо, основная причина в том, что в России была очень высокая мобильность населения. Диалекты формируются, когда люди несколько столетий постоянно живут в одном и том же месте. Бельгийские крестьяне и ремесленники никуда особенно не перемещались и не ездили, они поколение за поколением рождались и умирали в своем маленьком поселке или городке, где их, вероятно, все устраивало.
Иначе было в России. Вспомним хотя бы историю колонизации Сибири, она в течение нескольких веков заселялась людьми из самых разных регионов. Или недавнюю советскую историю, когда всю страну мотало и перебрасывало из одного угла в другой, и человек в любой момент мог быть сорван с обжитого места – «ему на запад, ей в другую сторону», как в песне Исаковского. Россию все время встряхивали и перемешивали. А если мы долго взбалтываем раствор, он получается однородным.
Если люди воспринимают свой язык как непрестижный, то очень трудно эту ситуацию переломить; и для развития языка это гораздо хуже, чем даже малая численность носителей. Человек уверен, что он чего-то добьется, если выучит, допустим, английский язык, и потом заставит своих детей забыть родной язык и перейти на английский. Эти чисто психологические механизмы престижа, успеха оказывают на судьбы языков гораздо более разрушительное воздействие, чем пули, боеголовки, количество населения и прочее
Вы говорили в одной из своих лекций, что сегодняшнее доминирование английского языка вызвано победой союзников во Второй мировой. А каково будущее этого языка?
Для ответа на этот вопрос надо спросить, какое будущее у человечества в целом и у США в частности, будет ли эта страна оставаться мировым лидером или уступит свое место Китаю, Индии, Индонезии, Бразилии? Ведь дело здесь не в самом английском языке, а в роли тех стран, где говорят на английском. И английский – вовсе не «идеальный» мировой язык, если уж об этом рассуждать. Да, английский достаточно прост грамматически, и научиться плохо говорить на нем довольно легко, но английская фонетика, например, очень сложная и «неудобная» для аудирования. В этом отношении гораздо более четкая фонетика у того же итальянского – и, наверное, он был бы прекрасен в качестве мирового языка. Но дело ведь не в «технических характеристиках» языка, а в политике: не лингвисты выбирают лидера, и не лингвисты оценивают его будущее.
Сколько времени занимает становление языка как мирового? Еще в 1960-е положение английского было не таким, как сейчас.
Видите, хватило 50 лет. Это довольно стремительные изменения. Вспомним довоенную ситуацию. Сейчас, читая воспоминания, документы эпохи, многие удивляются: европейцы в массе своей не знали английского. Это был, что называется, «редкий язык». В России образованные люди всегда были двуязычными, но английский выступал в роли второго языка крайне редко. Как известно, по-английски говорили в семье Набокова, но это было исключением, таким своего рода чудачеством. Ну представьте себе, как если бы у вас в семье владели шведским. В общем, Америка была далеко, а Британия была для Европы маленьким островом, пусть и колониальной державой. Но, как видите, даже империя, над которой в XIX веке не заходило солнце, не делала английский мировым языком.
В то время мировая наука пользовалась в основном немецким. Французский имел колоссальную нишу как язык передовой культуры, литературы, моды, язык рафинированных поступков и мыслей. И все это до поры до времени сосуществовало. Равновесие очень резко нарушилось после Второй мировой войны: Германия собственными руками лишила себя статуса интеллектуального лидера, Франция, обескровленная двумя страшными войнами XX века, погрузилась в разные внутренние проблемы, которые лишили ее возможности поддерживать прежнее влияние. Центр тяжести переместился в Америку. Добавим еще Канаду с Австралией, Индию. Новый Свет соединился с наследием Британской империи.
Америка после войны оказалась страной передовой научной мысли. Это очень существенно. Для распространения языка важно интеллектуальное лидерство. Почти все новое, что возникает в интеллектуальной жизни, формулируется сейчас на английском языке. Не на хинди и даже не на японском, а на английском. Происходит эффект кумуляции: даже если я живу в пространстве другого языка, но хочу, чтобы человечество обо мне узнало, я должен перевести себя на английский. И если кто-то желает, чтобы было иначе, надо создать для этого другой центр интеллектуального лидерства. И никакие пропагандистские уловки, демонстрация силы, хвастовство или угрозы здесь не помогут. Готы и гунны захватили и разрушили одряхлевшую Римскую империю, но внуки этих завоевателей все равно перешли на латынь. Если наша цель – добиться распространения того или иного языка в мире, нужно просто создать на этом языке нечто уникальное – то, чего нет в пространстве других языков. Молодые люди по всему миру с удовольствием начинают учить японский исключительно из-за аниме, и иероглифы не пугают их сложностью, а, наоборот, привлекают своей красотой.
Для распространения языка важно интеллектуальное лидерство. Почти все новое, что возникает в интеллектуальной жизни, формулируется сейчас не на хинди и даже не на японском, а на английском. И если
кто-то желает, чтобы было иначе, надо создать для этого другой центр интеллектуального лидерства. И никакие пропагандистские уловки, демонстрация силы, хвастовство или угрозы здесь не помогут
Как вы относитесь к подсчетам, говорящим, что к 2050 году главнейшими языками по числу носителей станут китайский, хинди, арабский, испанский и английский?
Смотря что понимать под «главнейшими». Есть такой фактор, как численность населения, который не прямо коррелирует с мировым лидерством. Может быть бедная многодетная семья и богатая семья с одним ребенком. Трудно сравнивать. Есть регионы, где очень быстро растет население и, соответственно, численность носителей языков: Индонезия, Индия, Китай, арабский мир. Но это не так заметно в нематериальном пространстве – культурном, научном, политическом. То, что вас много, не значит, что ваш голос будет слышен. Современный мир, к сожалению, устроен так.
При этом следует иметь в виду, что такой сущности, как арабский или китайский язык, строго говоря, не существует. Это конгломераты разнородных языков. Арабский мир, конечно, пользуется литературным арабским языком, но он ни для кого не родной. Это язык классической арабской литературы: Корана и памятников VII–XII веков. Это как если бы все славянские страны использовали в качестве письменного и для общения друг с другом старославянский язык. Родные языки жителей Туниса, Алжира, Сирии даже не взаимопонятны. Когда они хотят общаться, то переходят на литературный арабский язык, аль-фусха, которым все образованные арабы владеют. Отчасти сходная ситуация в Китае. Существует несколько десятков так называемых диалектов китайского (в том числе кантонский, минь и др.), которые в полном смысле разные языки. Это разнообразие особенно велико на юге и юго-западе Китая, от Шанхая до вьетнамской границы. Конечно, есть и литературный язык – путунхуа, пекинская норма. Но не все им владеют хорошо.
Американское интеллектуальное и экономическое лидерство, победа во Второй мировой войне, географическая разбросанность – все это ведет к тому, что английский язык ассоциируется с процветанием. А возможно ли обратное, когда количество носителей разрастется до того, что своей массой и давлением будет обеспечивать стране – донору языка какое бы то ни было процветание? Например, Испания и испанский.
На мой взгляд, само по себе количество носителей процветания не обеспечивает. Язык по сути не материальное явление, а духовное, психическое, культурное. А количество населения – это физиология, материальный мир. Прямой корреляции здесь нет. Конечно, если носителей несколько миллионов, такой язык будет чувствовать себя относительно благополучно, а если их несколько тысяч, то он фактически обречен. Если мир не изменится кардинально, малые языки будут продолжать исчезать.
Есть еще такое нематериальное понятие, как престиж, тоже очень мощный механизм. Если люди воспринимают свой язык как непрестижный, то очень трудно эту ситуацию переломить; и для развития языка это гораздо хуже, чем даже малая численность носителей. Человек стесняется своего родного языка, не хочет на нем говорить, считает, что владение этим языком как-то связано с бедностью и отсталостью. Мы начали с того, что с научной точки зрения все языки равноправны, нет никакого детерминизма, обвинять язык в своих проблемах – наивное уорфианство. Но, к сожалению, в обыденном сознании такая ассоциация часто возникает. Человек уверен, что он чего-то добьется, если выучит, допустим, английский язык, и потом заставит своих детей забыть родной язык и перейти на английский. Эти, казалось бы, чисто психологические механизмы престижа, успеха оказывают на судьбы языков гораздо более разрушительное воздействие, чем пули, боеголовки, количество населения и прочее. Все изменения происходят сначала в головах людей.
В странах Центральной Азии люди довольно резко переключились с русского на свои родные языки. Неужели престиж русского или перспективы, которые он обеспечивал, так резко сократились? Или это все-таки чистое желание самоидентификации, которое вполне может сохранить даже непрестижный язык?
Это сложный процесс. То, что с русским языком происходило на постсоветском пространстве, – ситуация многовекторная. В каком-то смысле все произошедшее естественно и ожидаемо на ближайшем временном отрезке для независимых государств, где преобладает коренное население. Вернемся к Африке. Почему после независимости в африканских странах почти везде остался в качестве государственного английский или французский? Многие ожидали, что Средняя Азия повторит африканскую ситуацию и русский сохранит то положение, которое в Африке сохранил, например, французский. Но ведь ситуации совершенно разные. В Африке это была вынужденная мера, потому что, во-первых, в каждом государстве – колоссальная полиэтничность: десятки, если не сотни, народов на сравнительно небольшой территории. Во-вторых, местные языки не были функционально развиты ни в какой степени, они в подавляющем большинстве даже не имели письменности.
А в Средней Азии были, в общем-то, современные государства со вполне развитой инфраструктурой. Во-первых, относительно моноэтнические. Во-вторых, со своей прессой, литературой, с писателями, словарями и даже с академиями наук. Для перехода к использованию национального языка во всех сферах жизни достаточно было лишь небольшого начального импульса, что называется, «политической воли», и машина сама собой щелкнула и переключилась – а уж политической-то воли там было с избытком. Странно и наивно ожидать, что при таких исходных данных элиты предпочтут язык другой страны. Нет никаких причин думать так, кроме самоуверенности. Удивительным образом Казахстан – единственная страна, которая в какой-то степени сохранила русский язык, причем за счет того, что казахи в определенных ситуациях и сейчас продолжают говорить друг с другом по-русски. Но эта ситуация уникальна. Обратные процессы никого не должны удивлять – это рост национального самосознания, обычное национальное строительство. Если у вас собственное государство, вы по-другому и не поступите. Да, возникает вопрос о более дальней перспективе: правильно ли было так решительно отказываться от русского языка, который пока еще как-никак является мировым языком и одним из главных языков на пространстве Евразии? Но люди, как правило, думают о сиюминутных выгодах и к таким аргументам не прислушиваются. Вместе с тем маятник в какой-то момент может качнуться в другую сторону, так часто бывает. Однако тем, кто озабочен распространением русского языка в мире, нужно понимать – экспансия языка происходит не вследствие силового давления, а вследствие привлекательности тех культурных и интеллектуальных моделей, которые существуют в пространстве именно этого языка. Не сапогами и кувалдой поддерживается язык – а книгами, идеями, изобретениями, открытиями. Люди будут говорить не на языке Аттилы и Чингисхана, а на языке Вергилия и Блаженного Августина, Ньютона и Лейбница, Паскаля и Эйнштейна. Ну что ж, у русского языка в этом состязании не такое уж плохое положение, если вдуматься…